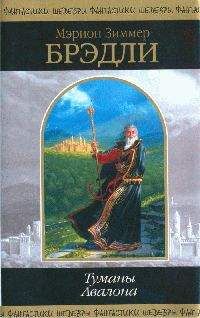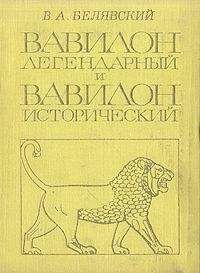Сэмюэль Дилэни - Вавилон - 17 [Вавилон - 17. Нова. Падение башен]
Трое оставшихся посмотрели ему вслед, затем друг на друга. Герцогиня сказала:
— Джон изменился за последнее время.
Алтер кивнула.
— Когда это началось? — спросила Петра.
— Минуточку… На следующий день после того, как он попросил меня научить его акробатике. Он страшно часто упоминал отца. Я думаю, он ждал предлога, чтобы повидать его. — Она повернулась к Эркору: — Что именно Джон узнал в ту минуту, когда мы все увидели друг друга? Он всегда был такой молчаливый, погруженный в себя… Его и сейчас не назовешь разговорчивым, но… так вот, он очень старательно учился всяким акробатическим трюкам: я сначала говорила, что он уже староват, чтобы делать это хорошо, и удивилась, как быстро он прогрессирует.
— Так что же он узнал? — теперь уже спросила герцогиня.
— Возможно, — сказал телепат, — кем он был.
— Ты говоришь «возможно», — сказала герцогиня.
Эркор улыбнулся.
— Возможно, — повторил он. — Больше ничего не могу сказать.
— Сейчас он пошел к отцу? — спросила Алтер.
Гигант кивнул.
— Надеюсь, что все пройдет нормально, — сказала Алтер. — Восемь лет — слишком большой срок для злопамятства. Знаешь, когда учишь человека физическим упражнениям, по движениям его тела видны его ощущения, глубокое дыхание выдает усталость, движение плеч — боязнь, да, я наблюдала его эти последние два месяца. Надеюсь, все пройдет нормально.
— Ты и доктор Кошер были очень близки, — сказала Петра. — Ты имеешь какое-нибудь представление, куда она могла исчезнуть?
— До минуты конца войны мы были все время вместе, разговаривали, смеялись. А потом она ушла. Сначала я подумала, что она опять скрылась в каком-нибудь убежище, в каком была, когда мы с ней впервые встретились. Но нет. Я получила несколько писем. Она не отказалась от работы, она счастлива со своей новой теорией поля, и я подумала, что она наконец обрела спокойствие. Из последнего письма ясно, что вроде бы что-то случилось, и это, кажется, прерывает ее работу. Это выглядит странным.
— А стране воевать, — сказала герцогиня, — со своим зеркальным отражением в стальном блоке памяти не странно?
Глава 3
О чем думает человек перед встречей с отцом после пяти лет каторги и трех лет противоправной деятельности? Джон спросил себя об этом; ответом был страх, сжимающий горло, замедляющий шаги, отнимающий язык. Это был безымянный и неопределенный страх из детства, связанный с лицом женщины — по-видимому, его матери, и лицом мужчины — вероятно, отца. В восемнадцать лет он пережил неделю страха, начавшуюся с дурацкого вызова вероломного приятеля, которому посчастливилось быть королем Торомона (теперь Джон спрашивал себя, принял бы он вызов, исходи он от кого-то другого?), и кончившуюся паникой, ударом энергоножа и смертью дворцового стражника. Затем пять лет каторги (приговор был не на пять лет, а пожизненно), пять лет озлобленности, унижения и ненависти к страже за дрянное шахтное оборудование, к горячим часам под землей, где его руки царапали камень, к высокому папоротнику, бьющему по его задубевшей от грязи робе, когда он шел из бараков на рассвете и возвращался вечером; по за пять лет неприкрытый страх потряс только один раз, когда впервые заговорили о побеге, — переговоры шли ночью, шепотом, от койки к койке, или за спиной стражника в редкие минуты отдыха под землей. Это был не страх наказания, а страх самого разговора, чего-то неконтролируемого, возможной случайности в строго регламентированной тюремной жизни, где допускается только обмен взглядами да шепот. Он всячески боролся с этим страхом, присоединился к планам побега, помогал, копал руками лаз, считал шаги стражника, когда тот шел от будки к границе тюремного лагеря. Когда подготовка была закончена, осталось только трое; он был самый младший из скорчившихся под дождем у ступеней будки в ожидании свободы.
Когда они бежали в темноте, под хлещущими лицо мокрыми вайями, страха он уже не испытывал. Для страха просто не было времени. Но он копился и прорвался паническим ужасом, когда он потерял своих товарищей, когда вышел из джунглей слишком близко к радиационному барьеру, когда увидел шпили Тилфара, когда совершенно неожиданно он, не имеющий ни духовной, ни физической защиты, оказался на чужой планете.
Затем начались приключения. Была опасность, он был измучен, но страха, как сейчас, не испытывал. Маленькая белая пустота была негативом черного пятна ужаса из полузабытого детства.
Он поднялся по знакомым ступеням отцовского дома и остановился перед дверью. Когда я приложу палец к замку, подумал он, не окажется ли за дверью свобода?
Замок долго читал линии и завитки его большого пальца. Наконец темное дерево отступило, и Джон вошел. Интересно, изменился ли отец так же, как я, подумал он. Если привычки отца остались прежними, он должен быть сейчас в столовой.
Джон направился по коридору мимо гардеробной, мимо двери в комнату трофеев в бальный зал. Высокий, слабо освещенный зал простерся перед ним до двойной, как крылья лебедя, лестницы, спускавшейся с внутреннего балкона. Его сандалии мягко щелкали, и на миг он почувствовал, что множество призраков его самого провожает его в столовую.
Дверь была закрыта. Он постучал и услышал голос:
— Кто там? Войдите.
Джон открыл дверь. Затикали сотни часов. Дородный седой человек удивленно поднял глаза.
— Кто вы? Я приказал никого не впускать без…
— Отец… — произнес Джон.
Кошер дернулся в кресле, лицо его потемнело.
— Кто вы и что вам надо?
— Отец, — снова сказал Джон. На лице отца словно зажегся яркий свет, и он испуганно отступил назад. — Отец, это я, Джон, — выговорил он.
Кошер выпрямился и положил руки на стол.
— Нет!
Джон подошел к столу. Старик поднял голову и пошевелил губами, как бы подбирая слова.
— Где ты был, Джон?
— Я… — Джон не мог справиться с лавиной чувств, захлестнувших его; ему хотелось закричать, как ребенку, неожиданно оказавшемуся в темноте. Рядом стояло кресло, он сел, и это помогло ему удержаться от слез. — Я долгое время отсутствовал, был во многих местах. На каторге, как ты, полагаю, знаешь, потом три года был на службе у герцогини Петры, побывал в разных переделках, занимался разными делами. А теперь вернулся.
— Зачем? — Голова Кошера тряслась. — Зачем? Не хочешь ли ты получить прощение за то, что обесчестил меня, за то, что я не мог смотреть в лицо своим друзьям, своим сотрудникам?
Помолчав, Джон сказал:
— Так ты страдал?
— Я?
— Пять лет, — сказал Джон мягче, чем намеревался, — я видел солнце меньше часа в день; меня ругали, били; я надрывался в темноте тетроновых шахт, призывая на помощь мускулы, которых у меня не было. Я в кровь сдирал ладони о камни. Ты так страдал?